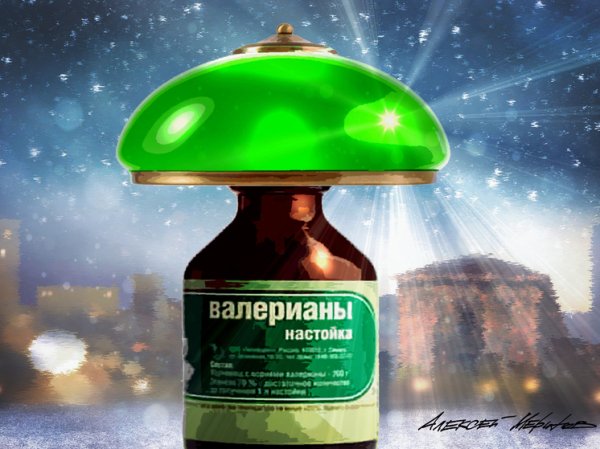«В России Пикассо не возьмут, скорее, шапку слямзят»
Старинное здание напротив памятника Маяковскому, на другой стороне улицы Горького (то есть поблизости, а возможно, и в перекрестье этих литературных имен), фасад — витринный, ресторана «София», на задворках этого гастрономического очага (если обогнуть его справа, потянуть казенного вида не антикварную, скорее, фанерную дверь) обнаружится редакция журнала «Юность».
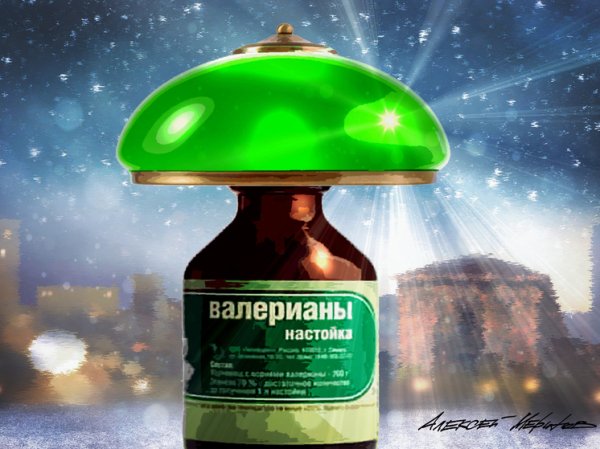
тестовый баннер под заглавное изображение
По затертым ступеням темноватой лестницы на второй этаж, опять простенькая, не раритетная дверь, попадаешь из городского грохота в тишину гостеприимной коммунальной квартиры (метафора правомерна, ибо рос я в дружно сплоченной коммуналке), та же коммунальная конфигурация: коридоры, большие и малые комнаты, крохотные клетушки — изолированные, смежные, распашонки, с незахлопывающимися (потому что намеренно не закрывают) створками, секретов нет, присаживайся, располагайся, тебе рады, — слева от входа, в импровизированной просторной (сравнительно с остальными помещениями) прихожей сутулится за столиком вежливый старичок-вахтер, никогда не спрашивает, к кому и зачем, за его спиной — отдел поэзии (заведует Натан Злотников, помощником — Николай Новиков), пять шагов вперед, и справа, после проема-перешейка-устья — отсеки главного редактора Бориса Николаевича Полевого (золотая звезда Героя на лацкане, ярчайшее достижение советской классики: «Повесть о настоящем человеке» изучают в школах, при этом создатель легендарной эпопеи пользуется муниципальным транспортом, пренебрегая персональной приданной ему черной «Волгой» секретаря Союза писателей СССР) и его зама Андрея Дмитриевича Дементьева (песня «Лебединая верность» и прочие любимые народом шлягеры), в приемной — неизменная многолетняя сподвижница Полевого Лидия Кузьминична, прямо по коридорчику — актовый зал, здесь проходили занятия знаменитой студии «Зеленая лампа», по правую руку от него — отдел юмора (единственный сотрудник, но какой! — Виктор Славкин), слева — отдел прозы (во главе — дипломатичнейшая Мэри Лазаревна Озерова и три ассистирующие грации: Татьяна Бобрынина, Елена Зотова, Ирина Хургина), отдел писем, отдел иллюстраций (и его колоритнейший, общительнейший, неумолчный завсегдатай Иосиф Офенгенден, каламбур напрашивается: офигенный Офенгенден, разница в возрасте огромная, но сразу предлагает на «ты» и экспромтом, единым росчерком создает дивный рисунок к моей новелле), далее — вотчина ответственного секретаря Леопольда Абрамовича Железнова и его соратника Эммануила Борисовича Вишнякова, отдел публицистики (руководит Юрий Зерчанинов, муж Клары Новиковой)… По стенам — картины молодых живописцев, среди них скромно — под стать обладателю — тулится полотно Пикассо, подаренное автором-гением Борису Полевому: лишнее доказательство, что коммунальная обитель воспринимается главредом не побочным, не второстепенным, а подлинно родным кровом, если БэНу (Борису Николаевичу) шутя говорили: «Украдут Пикассо, охраны никакой!», он флегматично отзывался: «В России Пикассо не возьмут, скорее, шапку слямзят». Его реплики стоят отдельного разбора. Когда вызывали в ЦК КПСС на разнос за идеологически невыдержанную линию не умевшего стоять по стойке «смирно» вольнолюбивого ежемесячника, он хмыкал: «Запихну в штаны шахматную доску с фигурами, пущай хлещут, грохоту много, а ягодиц не достанут!». Словечки, разумеется, использовал похлеще приведенных «слямзят» и «ягодиц», изъяснялся доходчиво. Тех, кто его подвел, отечески корил: «Ну, вы наср… Больше лошади…»
Посчастливилось получать сердечные письма от Бориса Полевого (ко мне, мальчишке, он обращался без котурн, как к равному!), дружить с Натаном Злотниковым (на улице, еще когда не были знакомы, он подобрал упавшего старика, отвез в 1-ю Градскую, оказалось, что это мой восьмидесятипятилетний дедушка), повезло публиковаться в отделах юмора и прозы (как-никак 4 повести, среди них много передряг хлебнувшие «Ловцы троллейбусов»), слушать поразительные воспоминания Леопольда Железнова. Сопоставляя «Юность» с параллельными ей периодическими изданиями клеклой брежневской эпохи (я наведывался и в казенно пальное «Знамя» Вадима Кожевникова, и в тусклую «Москву» Михаила Алексеева, и в «Новый мир» постыдного послетвардовского упадка, редакции этих скулосводяще скучнейших департаментов подавляли цепенящей официальщиной), нельзя не вознести хвалу незарегламентированной сабантуйской коммуналке и обосновавшимся здесь нон-конформизму, веселой непринужденности, доброжелательности, экспериментальности. Именно в этой купели хрущевской оттепели, где громкими новорожденными криками заявили о себе Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, Гладилин, Горенштейн, Горин, Арканов, должна была уютно примоститься и затеплиться, принимая эстафету завещанного декабристами, Пушкиным, Дельвигом немеркнущего светильника, маяка с зеленым абажуром, студия «Зеленая лампа» — пушкинский лицей, в аудиториях которого многоопытные мэтры могли передать творческий навык и демократические воззрения слетающейся на приветливый огонек литературной поросли. Эпиграфом подразумевались камертонные, аксиомные строки Евгения Винокурова: «Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!»
Помню вдохновенную лекцию Юрия Карякина (актовый зал битком), тончайшее выступление Владимира Турбина, семинарские занятия под дирижированием Виктора Славкина: Виктор Иосифович раздавал школярам наклеенные на библиотечные карточки вырезки из газет — о курьезных эпизодах, необъяснимых происшествиях, чудаках и их чудачествах, невообразимых глупостях и головотяпствах (эти «блестки» он коллекционировал в течение всей своей жизни), требовал стремительно сочинить рассказ-вариацию доставшегося чаще всего сюрреалистического сюжета. Скрипевший рядом со мной перышком (за письменным столом? нет, партой) Саша Портер блестяще справился с поставленным условием, я не сдюжил. Чтение-обсуждение нетленок затягивалось до полуночи. «Администрация», сколь долго ни длились бдения, не торопила, не гнала, не стучала ногтем по циферблату. Приобщение вечности не терпит спешки! Напротив, подчеркивалось уважение к начинашкам и их стараниям. Лучшие опусы получали путевку к читателю. В горниле дружества соперничающие амбиции переплавлялись в братское единство. По праву лицейского товарищества я бывал на спектаклях Славкина «Игра в серсо» и «Взрослая дочь молодого человека».
Многих поразительных подробностей о любимом журнале и его корифеях-патриархах не узнал бы, если бы не камерные чаепития возле «Зеленой лампы». Например, о том, что типографские станки, днем и ночью беспередышечно шлепавшие многомилионный тираж «Юности», привезены в качестве военного трофея из Германии. Эта деталь логично вписывалась в распахнувшуюся передо мной (и другими студийцами) бездверно-бесперегородочную панораму, существенно дополняла ее, выстраивала последовательную логичную цепочку причин и следствий (в молодости ищешь фактические подтверждения разумности происходящего, у наивных притязателей процесс поиска растягивается на более долгие сроки): вместо оголтелой человеконенавистнической гитлеровской пропаганды гуттенберговские прессы оттискивали теперь ироничные фельетоны Галки Галкиной, да и Борис Полевой и Леопольд Железнов закалили свою не-разлей-вода спаянность на фронтах Второй мировой, оба были военными корреспондентами «Правды». Леопольд Железнов (его жена погибла жертвой сфабрикованного обвинения по делу Еврейского антифашистского комитета) поведал однажды: главред «Правды» велел срочно отправляться в командировку в Ленинград, не назвав цель поездки. Маловагонный спецсостав под парами ждал журналистов (из других газет тоже) на Ленинградском вокзале. Прибыли к месту назначения, тут репортерам объявили: убит Сергей Киров. Следовало по горячим следам, оперативно и разножанрово оповестить об этом население. Но в момент отправления поезда, заметил Железнов, лидер ленинградских коммунистов был жив.
Закончились сходки под «Зеленой лампой» (их замечательно запечатлел фотограф Максим Земнов) вручением дипломов. Получивший такой диплом выпускник словно уносил с собой затепленную свечечку. Происходило прощание с юностью, прощание с милой нашему сердцу «Юностью» той поры. Перед воспитанниками-«светлячками» расстилалась не тепличная, не студийная жизнь. Патриархи уступали место молодежи. Леопольда Абрамовича Железнова сменил на посту ответственного секретаря Алексей Степанович Пьянов (будущий главред «Крокодила»), Полевой и Дементьев хорошо знали его по Калининскому обкому партии (они трое были выходцы из Твери).
…После напечатанной повести «Плюс-минус десять дней» (номер журнала был полностью отдан дебютантам) я принес в «Юность» новую повесть: «Светофор. Цвет жёлтый». В коридоре стояли озабоченные Полевой и Дементьев: пришла телеграмма о смерти матери Алексея Пьянова. Решали, как помягче сообщить ему о грянувшей беде. У Алексея Степановича в кабинете уже очень долго находился Вишняков, обсуждал свежепоступившую от Анатолия Алексина корректуру.
— Приду позже, — напутствовал нас Борис Николаевич.
Мы вошли и долго слушали сетования Вишнякова. Он говорил: у Алексина слишком большая правка, за нее в типографии много возьмут.
— Надо его знать, — весело реагировал Пьянов. — Алексин видит текст, только когда набран типографски.
— Я его понимаю, — говорил Вишняков. — Но издательство не понимает.
Наконец, он ушел.
Пьянов начал разбирать на столе бумаги, мурлыкал под нос какую-то мелодию. Он не знал и не догадывался.
— Чего невеселые, ребята? — спросил он, поднял голову и посмотрел на нас, потом продолжил бумажные пертурбации. — Такие славные ребята, и невеселые.
— Несчастье у тебя, Леша, — сказал Андрей Дмитриевич.
— А? — Пьянов вскинул глаза и замер, надеясь, что ослышался. — У кого, у меня?
— С Дальнего Востока телеграмма.
В одно мгновение он преобразился. Лицо осунулось, сузилось, приняло испуганно заискивающее выражение. Он сделал суетливое движение — то ли хотел отодвинуться на стуле от нас подальше, то ли спрятаться в ворохе бумаг. Но отступать было некуда.
— Что, мама? Заболела мама? — предпринял последнюю попытку он.
— Умерла, Алеша, — сказал Андрей Дмитриевич.
Пьянов прижал ладони к глазам и по-детски заскулил.
— Держись, старик, — сказал Андрей Дмитриевич. — Сколько ей было?
— Шестьдесят пять, — глухо, сквозь всхлипы, ответил Пьянов.
Когда закончился первый приступ рыданий, он поднял лицо. Веки уже припухли и покраснели.
— А я… А я… Даже не похороны полететь не смогу. Мама… — И он снова заплакал.
— Вот наша жизнь, — сказал Андрей Дмитриевич — Еще полчаса назад шутили, а человека уже не было.
Я посмотрел в окно. Под окном остановился автобус, набитый детскими яркими одеялами. Они были уложены на сиденье тюками.
Снег на середине мостовой был не тронут, только по краям, справа и слева, тянулась перевитые следы задевших целину шин.
Вошел Полевой. Увидев Бориса Николаевича, Пьянов опять заплакал. Полевой обхватил вздрагивавшего от рыданий Алексея Степановича, прижал его голову к своей груди и стал гладить по волосам.
— Ну, успокойся, — говорил он. — Успокойся.
Пьянов стал всхлипывать реже.
Лидия Кузьминична принесла настойку валерианы и ландыша.
— Вот это я понимаю, — сказал Полевой. — Это и я могу за компанию выпить.
— Я каждый день на ночь пью, — сказал Дементьев, — вместо водки и коньяка.
— И правильно, — поддержал его Полевой. — Еще пустырник надо пить.
— С травами сейчас плохо, — сказал Пьянов. — Мы этим летом с Ирой пустырник искали и не нашли. Все луга скошены.
— Да он возле каждого туалета растет, — возразил Полевой.
— Возле нашего редакционного тоже? — пошутил Пьянов.
Он выпил капли.
Я принес воду, чтобы Полевой мог разбавить капли, и предупредил:
— С виду стакан не очень чистый, но я мыл.
— Ерунда, — сказал Полевой. — Я с земли из лошадиного копыта пил. — И тоже выпил валерьянку.
Источник: www.mk.ru